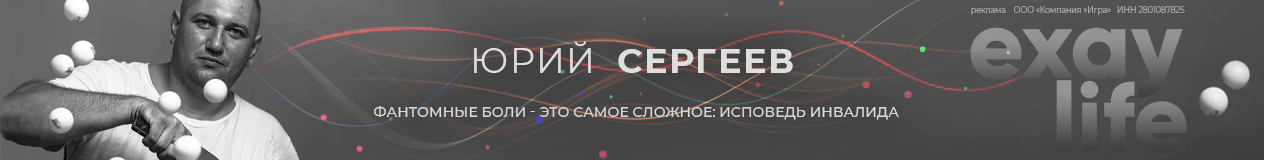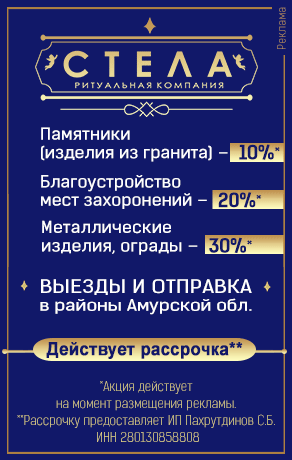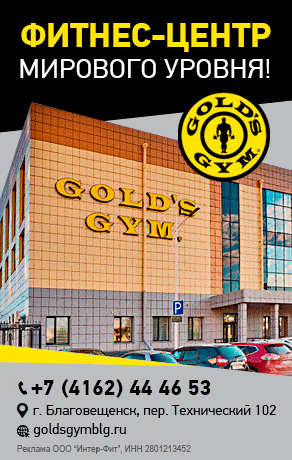Охотник, католик, блогер, медбрат, театрал – все это о писателе Сергее Шаманове, экс-амурчанине, который со своей повестью «Зимовьё на Гилюе» номинирован на литературную премию имени Леонида Завальнюка. О своей жизни, литературе, поисках самого себя и любимой женщины Сергей откровенно рассказал в интервью Amur.life.
Детство и юность Сергея Шаманова прошли в Тынде. Именно там он открыл для себя красоту и суровую реальность дальневосточной природы. Школьные каникулы становились временем настоящих испытаний и открытий – вместе с друзьями он отправлялся в таежные походы, учился ловить рыбу и охотится, подолгу жил в самодельной избушке в полном единении с тайгой. Свое необыкновенное детство Сергей полностью перенес на страницы повести «Зимовьё на Гилюе», которая стала лауреатом Международного конкурса имени Сергея Михалкова, а теперь номинирована на литературную премию имени Леонида Завальнюка в номинации «Лучшее произведение для детей».
– Сергей, почему решили написать автобиографичную повесть «Зимовье на Гилюе»? Тоскуете ли по детству?
– Когда я был маленьким, считал, что у меня заурядное детство, как у всех. Но, повзрослев, выяснил, что у многих юные годы прошли в панельных многоэтажках, возле телевизоров и игровых приставок и по строгим правилам, установленным родителями и социумом. В свою очередь многие из тех, кому я рассказывал о себе, поражались, какими интересным было моё детство, проведённое в тайге. И я решил, что об этом можно поведать не только знакомым. Повесть ориентирована на подростков, но слова благодарности я слышу и от взрослых. Что касается тоски по детству, то у меня раньше бывали ностальгические флешбэки, связанные с ним, но после написания повести они исчезли. Наверное, потому что сейчас в любой момент могу открыть книгу и пережить всё сначала. Как будто детство, и все, кто меня в нём окружали, стали бессмертными.
– Как давно и почему уехали из Амурской области? Нет ли желания вернуться, пройтись по заветным таежным местам?
– Я уезжал из Тынды постепенно. Сначала купил квартиру в Красноярске в 2013 году. Там я и написал за три года повесть «Зимовьё на Гилюе». Я мог себе позволить жить на два города, потому что был руководителем рекламного агентства и располагал временем и средствами. В 2019 я расстался с женой, передал ей фирму и уехал в Московскую область – ближе к столице, которую всегда любил. Вернуться пока не хочется, не настолько долгое ещё расставание.
– Устами своего героя вы говорите, что есть люди, для которых достижения современной цивилизации значат меньше, чем жизнь в единении с природой. А для вас всё получилось наоборот. Что повлияло?
– Перед тем, как окончательно перебраться в Московскую область, в метрополию, так сказать, я успел пожить пару лет в глухой деревушке Отроги в Восточном Саяне, а осень 2019 года провёл на таёжной заимке недалеко от Тынды. И там я сильно тосковал по цивилизации. Потому что я был совсем один. Я не могу без людей. Мои герои более неприхотливы. И они не одиноки. Если бы у меня в Саянских хребтах или на тындинской заимке была такая же Эльга, как у Ергача, я, пожалуй, до сих пор бы из тайги не выбрался.
– Чего вам не хватало на Дальнем Востоке?
– Культуры. И я имею ввиду сейчас не окружение из благовоспитанных людей с манерно оттопыренными мизинчиками. А культуру как процесс. Мне не хватало театров, музеев, выставок, творческих тусовок...
– Москва в большей степени, как и Россия в целом, православная. Почему вы приняли католицизм? Что есть в нем, чего нет в православии для вас?
– Мои предки поляки переселились на Дальний Восток в конце XIX века. И хотя этнических кровей в нашем роду намешано много, и русских больше всего, мама признавала только польскую, считала себя чистокровной полькой и принимала только католицизм. И я вот это полонофильство тоже унаследовал от неё. Но, есть и ещё нечто необъяснимое, что можно почувствовать только душой. И это необъяснимое вспыхивает у меня внутри, когда захожу в любой католический храм.
Если же отбросить эмоции, то в католицизме, в отличие от православия, больше свободы. У нас нет дресс-кода. Женщины приходят на мессу с непокрытой головой, распущенными волосами, в джинсах. Мужчины тоже кто в чём. Дети во время мессы бегают туда-сюда, молодёжь может чатиться в ТГ на мобильниках. Никто не ругает. Большую часть мессы мы сидим на лавочках. У нас нет той строгости в обрядах, которые присутствуют в православии. Но в то же время при таком бытовом либерализме у нас, например, полностью запрещены разводы между супругами, что для меня важно. И мы стараемся раз в неделю обязательно бывать в храме. Ещё антураж нравится – органная музыка; стройность и безбородость священников; аскетизм и минимализм в убранстве храмов. И ещё мы долго справляем Рождество. Адвент у нас начинается за три недели до Рождества. И все эти три недели мы радуемся приближающемуся празднику.
Но каких-то принципиальных различий в вероисповедании я не вижу. Что католики, что православные – традиционные ортодоксальные христиане. И Библия у нас одна, и Бог один.
– Первая ваша профессия - охотник-промысловик. В какой момент вы поняли, что надо поступать на филологический?
– После школы так же, как главный герой моей повести, я уехал на Таймыр, где получил профессию охотник-промысловик. Вернувшись в Тынду в 1992 году, обнаружил, что промхоз развалился и каждый выживает как может. Меня, 18-летнего пацана, в тайгу на работу охотником брать уже никто не хотел. Некому было. Я устроился в геологическую партию, но и геология вскоре развалилась. Тогда я попробовал писать в тындинскую районку. После третьей статьи меня пригласили работать штатным корреспондентом газеты «Авангард». И тогда пришло понимание, что нужно совершенствоваться в начертании графических символов. Я уехал в Сибирь и поступил в университет на филфак, продолжая работать в газетах.
– Как к этому отнеслась ваша мать? В книге чувствуется, что она сыграла большую роль в вашем становлении как личности.
– Мама к тому времени умерла, это случилось очень рано. Но перед уходом она успела разочароваться во мне. Журналистом был мой отец, которого она не любила и с которым они были в разводе. Мама хотела, чтобы я стал врачом.
– Поэтому вы сейчас учитесь на медработника? Ждать ли впоследствии книг о врачебных историях?
– В последние годы я был блогером. После санкционного отключения монетизации на ютубе я лишился дохода и стал искать другую работу. Писал театральные рецензии, но они не приносили достаточно денег, как и литература. И тогда я вспомнил про медицину. В повести «Зимовьё на Гилюе» есть глава, посвящённая ей. В детстве я ходил на медицинские курсы в Тынде при Доме пионеров. И решил снова примерить белый халат. Продал охотничий карабин, оплатил учёбу на курсах младшего медбрата. Устроился после курсов в Центр экстренной медицинской помощи при Первой градской больнице им. Пирогова в Москве. И меня это всё так захватило! Какое-то озарение пришло, что тут моё место, что тут я счастлив.
Поэтому решил продолжить образование, поступил в медицинский колледж очно-заочно. И по-прежнему работаю в больнице, оказываю экстренную помощь. На медицинскую тему книги обязательно будут.
– Пушкин воспринимал вдохновение как божественный дар. Помните: «И бога глас ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли»? Как к вам приходит вдохновение?
– Ну, я точно не пророк, про меня это было бы громко сказано. Но могу подтвердить: и вдохновение, и вообще способность сочинять тексты снисходит только от Бога. Откуда-то свыше. Вот интересный факт: в Красноярске я купил в новую квартиру самый простой письменный стол из ДВП за две тысячи рублей. И не понять с чего так вдохновился этой скромной покупкой, что сел и сразу написал за ним первые 11 глав «Зимовья». Писал с крейсерской скоростью 1 глава за двое суток. На остальные главы позже ушло почти три года.
– Страдаете, если музы долго нет? И что делать, если не пишется? Ждать вдохновения или заставлять себя работать?
– Очень редко бывает такое: сажусь за стол – и ни одной мысли. Как будто я вообще никогда и ничего не писал. Не могу составить ни одного предложения. В такие минуты у меня слёзы из глаз катятся: «Боже, за что Ты меня оставил?!»
Но чаще бывает так. Мне заказали рецензию на спектакль. Спектакль авторский, скучный до ужаса, но милый, сделан с душой. Надо что-то хорошее написать. Сажусь за комп без единой мысли. Пишу 5, 6, 10 корявых шаблонных предложений. На одиннадцатом предложении ловлю творческий вайб и у меня мысль летит быстрее, чем я успеваю её напечатать. В итоге (по отзывам) рецензия получается интереснее, чем сам спектакль.
– Есть ли авторы, на которых хочется быть похожим в творчестве или в жизни? С кем можете себя сопоставить? Хотели бы повторить чью-то судьбу? Или лучше идти своей дорогой?
– С юности я хотел быть похожим на Владимира Набокова. Во всём – в творчестве, во внешности, в аристократических манерах. Во всех моих произведениях можно найти аллюзии на Набокова или его незримое присутствие. Это не подражание, не плагиат. Это преемственность, приверженность определённой школе в литературе. И это нормально, так как сам Набоков находился под сильным влиянием Флобера, Джойса, Льва Толстого. Своей дорогой в отрыве от литературных процессов идут только невежды по типу «чукча не читатель, чукча – писатель».
– Помимо Набокова, есть еще любимые писатели?
– На первом месте и с большим отрывом от всех для меня всегда будет Набоков. Я бесконечно его перечитываю. Особенно «Приглашение на казнь». Далее идут: Лев Толстой, Френсис Скотт Фицджеральд, Теннесси Уильямс... Из сибирских и дальневосточных авторов люблю Виктора Астафьева, Николая Задорнова, Николая Наволочкина. Отдельно стоит Юрий Сбитнев – писатель, который своими повестями «Костёр в белой ночи» и «Совершивший зло» невольно привил мне в детстве любовь к литературе и желание её создавать; его влияние тоже очень велико в моих произведениях.
– Не могу не спросить: вдохновляли ли вас когда-то Некрасов с Тургеневым, известные мастера пера и топора?
– Некрасова почти не читаю. Лично мне он не интересен. Тургенева я всегда хотел осилить, понять, полюбить. Часто перечитываю. Но, как-то «слишком сложно для цирка». И после него у меня не остаётся послевкусия, герои его не запоминаются почему-то. Хотя, созданные им женские образы, те самые пресловутые «тургеневские девушки» мне нравятся и мне близки.
– Говорят, на охоту ходят не за добычей, а за душевным покоем. А за чем ходят в литературу? Есть ли там душевный покой? Или скорее наоборот?
– Ну, мой сосед в деревне, коренной местный житель, на охоту ходит явно не за душевным покоем. Он просто стреляет всё, что шевелится, даже в запрещённые сроки, чтобы бесплатно поесть мясо. И это печально. За душевным покоем и единением с природой в лес отправляются городские охотники-интеллигенты. Коим, кстати, я и сам себя считаю. Но, кроме этого, в лес зовёт необъяснимая тяга, как и в литературу. Я не знаю, почему пишу. Денег это не приносит, душевного покоя тоже. В минуты отчаяния я проклинаю и всю литературу, и всех писателей, и себя, за то, что с этим со всем связался. Но не писать я не могу. Так же, как не могу бросить охоту, даже живя в Москве.
– Сергей Довлатов говорил: бог не дает человеку поэтический талант, он дает ему талант плохой жизни. Согласны с этим утверждением? Делают ли литературу люди со счастливыми глазами? Должен ли писатель страдать?
– Писатель не должен страдать, но он будет это делать. Потому что литература давно утратила какую-то свою элитарность, исключительность. Пишут сейчас все и много. Десятиклассница Нюра Пупкина настукивает наманикюренным ногтём в своих телеграм-блогах гораздо больше печатных символов, чем я – ушатанный медбрат в больнице. Книг выпускается сотни тысяч в год. При такой конкуренции писатель никогда не будет богатым. Будет либо страдать, либо искать дополнительный источник дохода, либо упиваться славой в пределах своего райцентра.
– Писательское счастье – это ежедневное вдохновение или любовь миллионов?
– Для меня ни то и не другое. Для меня писательское счастье – это когда понимаешь, что из-под клавиатуры выпорхнула не просто интересная история, а произведение искусства. И ещё счастье в том, когда на твоих глазах происходит метаморфоз – перерождение твоей рукописи, эдакой невзрачной серой гусеницы – сначала в куколку, а затем в книгу – в изящную разноцветную бабочку, расправляющую крылья и летящую в мир литературы.
– А в личном плане? Счастливы ли вы?
– Я человек импульсивный, эмоциональный и всю жизнь делаю только то, что мне нравится, работаю там, где хочется. Всё время сам себя создаю, вечный такой self-made-man. Поэтому грех было бы прибедняться. Я почти счастлив. Почти, потому что мне не хватает для полного счастья только любимой женщины рядом.
– Что цените в женщинах? Какой должна быть жена писателя? О какой музе мечтаете?
– У меня этих муз сейчас в ватсапе около пяти или шести. Но бесконечный флирт ни к чему серьёзному пока не приводит. А хочется встретить нормальную женщину, завести семью, ребёнка. У меня есть представление, какой должна быть жена писателя. Но сейчас я хочу женщину, которая бы просто позволила себя любить. Расслабилась бы и просто получала удовольствие от того, что я окружил её заботой, вниманием, от того, что балую, вожу в театр, кафе, езжу с ней в Питер или в Европу. У меня даже в больнице, когда поступает пациентка среднего фертильного возраста, включается какой-то инстинкт защитника, инстинкт повышенной заботы. Я прямо ощущаю счастье от того, что могу ей помочь, облегчить боль, избавить от страданий. Поэтому и выбрал в колледже специальность «Акушерское дело». Но пока я свою музу не встретил. При всей моей активности в поисках любимой как будто проклятие надо мной висит. Как будто кто-то сделал мою куклу Вуду и колет её булавками на досуге.
– Вера Слоним, жена Набокова – идеальная писательская жена? Или вам ближе Елена Булгакова, например?
– Нет, Елена Булгакова мне не близка. Я не хочу называть причины, чтобы не вызвать гнев почитателей автора «Мастера и Маргариты». А вот Вера Слоним – идеальная женщина. Так же, как и графиня Софья Андреевна Толстая – супруга Льва Толстого. И Мария Корякина – жена Виктора Астафьева. Зная все секреты писательской кухни изнутри, могу сказать, что вышеперечисленные женщины не просто надёжные спутницы, музы, соратницы своих мужей, но и редакторы и, безусловно, соавторы. Они все были филологами, лингвистами. Поэтому, читая Толстого, Астафьева, Набокова, надо понимать, что перед нами семейный труд. Но лидирует в моём рейтинге жена Фёдора Достоевского – Анна Сниткина. Вот самая идеальная женщина.
– Говорят, Достоевский был очень ревнив и разработал для своей жены строгий свод правил. Французские романы читать запрещал, которые она любила, краситься…
– Допустим всё так, и он был деспотом или, как сейчас говорят, абьюзером, то любая нормальная, страдающая в браке женщина, тотчас после смерти этого деспота вышла бы замуж, или хотя бы завела роман. Анна Сниткина, прожив с Фёдором Михайловичем 14 лет, осталась вдовой в 34 года. Очень молода. Вся жизнь впереди. Многие жёны писателей в таком положении выходили замуж повторно. Но Анна отказалась от мужчин вообще, посвятив себя Достоевскому даже после его смерти (издавала его книги, продвигала их продажи и т.д.). Ну, это не просто идеальная жена. Это уже повод для канонизации, причислению к лику святых. Вот поэтому именно она – мой идеал. Я недавно купил книгу её дневников, ещё не читал. Но, думаю, найду в ней всё то, что предполагаю, и проникнусь ещё большим уважением.
– В вашей книге есть вторая сюжетная линия об охотнике Ергаче, который предпочитает бедную дочь тайги Эльгу богатой дочери купца и золоту и тем самым ставит любовь превыше всего. А что для вас любовь? На каком она месте в вашей системе ценностей?
– Исключительно на первом. Всё моё творчество — это доктрина любви. По этой доктрине любовь оправдывает всё. И когда у моих героев возникает дилемма: комфорт или любовь, деньги или любовь – они всегда выбирают любовь. И я сам придерживаюсь этих ценностей. Я и сообщества такие невольно выбираю, которые живут по доктрине любви. Когда я пришёл на курсы катехизации в храм святого Людовика, первое, что услышал от настоятеля – это заповеди «Возлюби Бога» и «Возлюби ближнего своего». Первую фразу, которую произнесла преподаватель на медицинских курсах была: «Медицина – это в первую очередь любовь к пациенту».
– Есть у вас поклонники? Получаете ли отклики о своих книгах? Проводите ли творческие встречи?
– Творческие встречи я не люблю. Не хочется красоваться, что-то из себя изображать, как будто я важная птица. А поклонники есть. В большей степени это зрители моего ютуб-канала. Некоторые стали моими друзьями. Но иногда в личку ВК пишут именно читатели, благодарят за творчество. Редко мужчины, чаще женщины 25-35 лет. Знакомство с одной из таких читательниц переросло в бурные и мегатоксичные любовные отношения, которые я описал в романе «Чёрная вишня».
– Писали ли стихи? Или вы только прозаик?
– Я со стихотворений и начинал. Публиковался в газетах. Сейчас не пишу, сейчас я просто свою прозу стараюсь делать более лиричной и поэтичной.
– «Зимовье на Гилюе» — это книга для подростков. Прочитала в одном из интервью писателя Михаила Тарковского, который, кстати, тоже знатный охотник, что детская литература – это наивысшая поэзия. Как вам такое сравнение? Согласны?
– Нет, я так не думаю. В основном детская литература – та же «Курочка Ряба» или «Колобок» – это интерпретация устного народного фольклора. А произведения Льва Толстого для детей – это вообще трэш. Один рассказ «Корова» чего стоит. Красочно описано, как мальчик Миша разбил стакан и выбросил мелкие осколки в лоханку. Корова наелась стёкол и её пришлось убить. Мороз по спине пробегает от этих строк.
Мне кажется, высшая поэзия в текстах или есть, или нет, независимо от того, кому эти тексты адресованы – взрослым или детям.
– Дружите ли с кем-то из современных писателей? Кого читаете из современников? Можете кого-то порекомендовать?
– Боюсь разочаровать, но я не люблю современных писателей. Особенно краеведов, обласканных местной властью, и обязательно состоящих в каком-нибудь союзе писателей. Важные, напыщенные персоны, эдакие фарисеи от литературы, к которым нам – грешным и убогим – на хромой козе не подъехать.
Из российских современников люблю только Михаила Тарковского и Михаила Кречмара. Общаюсь с Михаилом Кречмаром, но больше в сети. Иногда хожу на его лекции. Наши книги иллюстрирует один художник Николай Фомин, и это нас тоже сближает. Я считаю Кречмара уникальным человеком и писателем уровня Хемингуэя. Недавно открыл для себя современную американскую писательницу Ариэль Лохен. Её книга «Ледяная река» перевернула мою жизнь с ног на голову. Но это отдельная история. Я напишу об этом скоро большое эссе. Вообще же предпочитаю компании актёров, драматургов, режиссёров, медработников. Более открытые люди, более естественные. И в этой среде у меня есть друзья.
– Что дала вам Москва, как писателю?
– Вдохновение и силы. Тут много театров, в которых я завсегдатай. После хорошего спектакля появляются идеи для новых литературных работ. Силы Москва даёт так же своим величием и покоем, который нахожу в парках и бульварах. Женщины в Москве очень красивые. И вообще, вот это ощущение, что живёшь в центре мира, в центре Вселенной для меня очень важно. А я Москву считаю не иначе, как центром мироздания. Венцом человеческого творения.
– Есть ли дорога в большую литературу автору, если он живет в провинции и не хочет уезжать? Обязательно ли жить в столице?
– Дорога в большую литературу не всегда зависит от геолокации. Чаще от таланта. Виктор Астафьев жил на Урале, в Вологде, в Красноярске и там же работал, но его книги читают, они включены в школьную программу. Правда, это было во времена СССР. Сейчас же много бесталанных авторов просто живут в Москве, где связей и возможностей больше, и успешно печатают свои книги по знакомству. Вообще я считаю, что писателю надо жить там, где он чувствует себя счастливым. Я много поездил по стране. Дважды жил в Москве. И вот приехал в третий раз. Скорее всего, навсегда. И только в Москве я чувствую себя на своём месте.
– Можете дать совет, как раскрутиться автору хорошей рукописи?
– Кто бы мне такой совет дал? То, что я стал с «Зимовьём» лауреатом конкурса Сергея Михалкова и книгу полюбили читатели, и то, что у меня ещё две изданные книги за спиной, не даёт мне дорогу к сердцам издателей. Они люди деловые, предприимчивые, хорошо считают деньги. Художественная литература современных авторов – очень рискованная инвестиция. Я полгода не могу пристроить новый роман. Самый лучший совет дал по этому поводу Джек Лондон в книге «Мартин Иден». Напористая, исступлённая веерная рассылка по издательствам. Благо, что сейчас на почтовые марки тратиться не надо, как герою Джека Лондона. Есть списки издательств, нужно рассылать рукопись на электронную почту или форму на сайте. Именно так однажды «выстрелило» моё «Зимовьё» – благодаря веерной рассылке. Мне ответили и предложили поучаствовать в конкурсе.
– Как различаете хорошую прозу и не очень? А хорошую и великолепную?
– Как шеф-повар в ресторане. Открываю крышку кастрюли, зачерпываю ложкой месиво под клубящимся паром, и пробую. Достаточно капельки, чтобы понять – отрава в моей ложке или произведение кулинарного искусства. Так же и в книжном магазине: беру с полки книгу, открываю на рандомной странице, читаю один абзац и понимаю, хорошая это проза или мусор.
Хорошая проза часто встречается в книгах жанра нон-фикшн. Она, может, где-то и угловата, и простовата, но ты погружаешься в мир узкого специалиста; в мир, который иначе как из этой книги ты не узнаешь больше нигде. Это книги профессиональных охотников, хирургов, землепроходцев, альпинистов, для коих дело, которым они занимаются – смысл жизни.
Великолепная или идеальная проза – это уже произведение искусства, где на первом плане не история, не сюжет, а техника исполнения, музыка, наполняющая строки.
– Любимые места в Москве? Любимые музеи? Театры?
– Самое любимое место – мой приходской храм святого Людовика на Малой Лубянке и скверик возле него с огромной задумчивой елью, степенным каштаном и немного располневшей в свои преклонные годы яблоней. Здесь я чувствую себя как дома. Когда мне плохо, одиноко, когда слёзы на глаза наворачиваются, прихожу сюда.
Очень люблю Бульварное кольцо, особенно Страстной, Тверской, Никитский бульвары. Вдоль них много театров, самый любимый из которых театр «У Никитских ворот» Марка Розовского. Из музеев нравится усадьба Льва Толстого в Хамовниках, там чудесный сад с вековыми деревьями, которые помнят великого писателя.
– Какая из последних постановок вас впечатлила?
– У меня много любимых постановок, на которые хожу снова и снова. Например, «Пляшущие человечки» театра «У Никитских ворот» или «Эдит Пиаф. Гимн любви» театра «На малой Ордынке». Последнее, что поразило – скромный спектакль «Сиротливый Запад» ирландского драматурга Мартина МакДонаха, который я смотрел в маленьком подвальчике камерного театра «Событие». Показана жизнь ирландских алкоголиков, спившихся до уровня животных. Некоторые зрители в приступе отвращения просто покидали зал и уходили. Я же в какой-то момент вообще перестал следить за сюжетом, глаз не мог оторвать от сцены. Я такого удовольствия от игры актёров не получал даже во «МХАТе» и «Ленкоме». Но меня каждый месяц что-нибудь да впечатляет. Это процесс бесконечный.
– Пишете ли свою пьесу? Где бы хотели, чтобы ее поставили?
– Да, поскольку люблю театр, мечтаю написать пьесу. Начинаю, бросаю. Но при наличии времени допишу. Это инсценировка одного из произведений Набокова. Для разминки, так сказать. А уже полностью свою пьесу напишу после. Но я даже намёком не хочу говорить, о чём она будет. Просто чтобы не сглазить. Я суеверен. А увидеть её хотел бы на сцене всё тех же театров «У Никитских ворот» или «На Малой Ордынке».
– А кому из режиссеров доверили бы экранизировать свою прозу? Думали об этом?
– Любому, кто хоть немного денег заплатит. А если серьёзно, то меня легко осчастливил бы Дмитрий Месхиев. Обожаю атмосферность, которую он умеет создавать операторской работой, музыкой, цветокоррекцией. Я очень люблю его фильм «Свои» 2004 года. «Зимовьё» в таком стиле было бы шедевральным.
– Что относите к системе табу в литературе – и искусстве в целом?
– Я художник и табу в искусстве не приемлю. Первая моя наставница – ответственный секретарь газеты «Авангард», поэтесса Тамара Шульга сказала мне однажды: «Сергей, у писателя не может быть запретных тем». Это для меня аксиома. Но мы живём в государстве, с законами которого нужно считаться, нравятся они или нет. Так же у меня есть какая-то внутренняя самоцензура – я не могу материться даже в своих произведениях для взрослых.
– Что можете простить талантливым коллегам – пьянство, лень, невежество, эгоизм?
– Талант ни одного порока не оправдывает. Тем более, всё перечисленное – очень низменное, отвратительное. Большинство моих любимых писателей не имели таких пороков. А если и имели, то я их не оправдываю. Но и не осуждаю. Не мне судить.
Единственное, что могу оправдать и понять – это тщеславие и излишнюю полигамию, но только если человек не связан узами семьи. Семья для меня священна.
– Что думаете про приход ИИ в нашу жизнь? Пощадит ли он писателей?
– Такое ощущение, что половину современных книг и так уже пишет искусственный интеллект. Открывайте в книжном магазине в разделе боевиков или фантастики книгу за книгой и увидите, что они написаны одинаково простым, машинным слогом. И если вместо этих авторов будет творить нейросеть, никто не заметит. А вот таких писателей как Кречмар, Тарковский машина никогда заменить не сможет, так как все события их книг основаны на реальных фактах и личном опыте. Чтобы написать подобную книгу, нужно взять ружьё и минимум год провести в тайге. Нейронная сеть может придумать похожую историю, но поскольку у неё нет личного опыта, ценность такой истории нулевая. Жанр нон-фикшн, а особенно нон-фикшн, доведённый до произведения искусства, ИИ точно никогда не осилит.
– Идеальное книгохранилище – интернет или библиотека?
– Только библиотека на бумажных носителях. В связи с разводом я потерял бесценную библиотеку – более 2 тысяч томов. Но сейчас мои книжные полки вновь наполняются, в том числе медицинской литературой. Томов 500 уже точно есть.
– Вы еще и выращиваете свой сад. Не отвлекает ли это от творчества? Или, наоборот, вдохновляет?
– Этой весной я посадил примерно 15 новых деревьев: сакуры, каштаны, яблони. Есть огород – весьма запущенный. У меня большой участок 18 соток плюс соток 7 в окрестностях дома, которые нужно ещё и обкашивать летом. Я просто не успеваю, так как работаю в больнице сутки через двое и постоянно где-то учусь. Хожу в театр хотя бы раз в неделю. Пишу тексты. Путешествую. Просто не успеваю. Для меня занятие садом – это всё равно что пасьянс раскладывать – отдых для мозга. Но одному содержать всё это очень трудно. У меня катастрофическая нехватка времени.
– Что у вас сейчас в работе?
– Весной закончил новый роман. Сейчас в работе 5 или 6 начатых романов. Но я не могу сказать, закончу ли их вообще с таким дефицитом времени. И ещё пьеса всё никак не допишется.
– Что-то читаете? Реально ли это – успевать читать чужие книги и писать свои?
– Я как раз из того разряда литераторов, которые больше читатели, чем писатели. Читаю постоянно. В основном, в метро и электричках. Правда, в электричках часто хочется спать, и я могу отрубиться прямо с книгой в руках. Сейчас перечитываю «Преступление и наказание» Достоевского. Перед этим были «За бортом по своей воле» Алена Бомбара и «Путешествие хирурга по самым прекрасным и ужасным изменениям человеческого тела» Фрэнсиса Гэвина.
– Какая у вас мечта?
Найти свою единственную Анну Сниткину. Именно за ней я и пришёл в этот мир. Всё остальное для меня вторично.
Беседовала Ольга Крутикова
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.